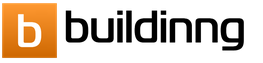Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, учебники русского языка и др.). Общее понятие о кодификации языковой нормы Что понимается под кодификацией языка
В 1730-х гг. и В.К. Тредиаковского с середины 1740-х гг. как разные этапы
Языковая программа В.Е. Адодурова и В.К. Тредиаковского
Доломоносовский период отечественной русистики, основными представителями которого являются В.К. Тредиаковский и В.Е. Адодуров, а также В.Н. Татищев, тесно связан с петровской реформой азбуки и вообще с идеологией петровской эпохи; его характеризует радикальность программы, размежевание сферы влияния церковнославянского и собственно русского языков, борьба за эмансипацию русского литературного языка и в известной мере – ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию. В центре внимания находились при этом вопросы орфографии: орфография вообще играет доминирующую роль в самосознании литературного языка, с другой стороны, именно в графических различиях, – начиная с противопоставления гражданской и церковной азбуки, – с наибольшей наглядностью выражалось противопоставление русской и церковнославянской речевой стихии. Тем самым в условиях размежевания церковнославянского и русского литературного языков орфографические проблемы становятся особенно актуальными, приобретая принципиальную важность.
Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1769) предпринял попытку упорядочить литературный язык, придать ему нормы и теоретически обосновать их. Он пытался приспособить разговорную речь для художественного произведения.
В 1730 г. он опубликовал перевод романа французского писателя Поля Тальмана «Езда в остров Любви». В предисловии «К читателю» он излагает свои взгляды на литературный язык. Он мотивирует отказ от церковнославянского языка как языка литературы следующими обстоятельствами:
1) жанром произведения (роман – «мирская книга» о любви, а «язык славенской у нас есть язык церковный»). Тредиаковский пишет, что «словенской» язык не пригоден для изложения светского содержания;
2) непонятностью церковнославянского языка для большинства читателей («Язык славенской в нынешнем веке у нас очень темен и многие его … неразумеют»);
3) эстетическими соображениями – «славенской» язык воспринимается как несоответствующий современному слуху («Язык славенской ныне жесток моим ушам слышится»).
«Славенским» языком тогда называли язык старинных книг, преимущественно религиозных, не выявляя при этом различий ни между церковнославянским и древнерусским языками, ни между типами древнерусского литературного языка.
Писателем уже ощущалась различная стилевая тональность церковнославянского и русского языков.
«Езда в остров любви» – роман с ярко выраженной любовно-галантной тематикой, и поэтому церковнославянский язык не был удобным для выражения разнообразных любовных чувств и страстных томлений героя повествования.
Тредиаковский провозглашает литературным языком «российский язык», «каковым мы меж собою говорим». При этом он ориентировался на речевую практику благородного сословия – образованного дворянства. «Общее учтивое употребление» дворян – это языковой эталон для Тредиаковского.
Несмотря на социальную ограниченность живой русской основы литературного языка (употребление русского языка в кругу образованного дворянства), установка на нее была прогрессивной, хотя эта попытка радикального изменения литературного языка не сыграла заметной роли в его истории. Та реальная языковая основа, на которую предлагалось перевести литературный язык, еще не имела своих особых и устойчивых форм литературного выражения. И жанр светских любовно-галантных романов еще воспринимался необычным, не имел еще своих традиций литературного выражения, на которые можно было бы опереться.
Прогрессивные теоретические установки Тредиаковского не получили практического воплощения в его собственных литературных трудах. Его язык тяжеловесен, имеет в своем составе многочисленные канцеляризмы, не свободен от церковнославянских элементов, изобилует громоздкими синтаксическими конструкциями.
Тредиаковскому не удалось эффективно подкрепить свои взгляды художественной практикой. Для его языка характерны смешение и столкновение русских разговорных форм с церковнославянизмами, грубым просторечием и галантными заимствованиями. Он сочетает тяжеловесные канцелярские обороты, архаические элементы словарного состава с одновременным включением в повествование грубого просторечия.
При переводе терминов Тредиаковский ищет наиболее точные лексические эквиваленты, что приводит к появлению нескольких русских вариантов одного и того же иностранного слова: # harmonie – согласие, слитное сочетание, сличие ; industrie – вымысел, притворство, искусство, досужество. Не находя для термина однословного эквивалента, он прибегает к описательному способу перевода: # abstraction – отвлечение от вещества, chaos – добро смеси , echo – отзывающий голос , enthousiasme – жар исступления , laboratorie – работная храмина ; или подбирает слово русского языка, синонимичное с точки зрения переводчика, термину в языке-оригинале: # analogue – сходственный, colonie – поселение, revolution – преобращение, klimat – страна . В ряде случаев Тредиаковский употреблял слова-термины без перевода (# атлетический, гигант, диета, комета, критика, магнит, меланхолия, парадокс, симпатия, феномен, физиономия, эпоха ).
В 1735 г. при Российской Академии наук создается общество, которое называлось «Российское собрание» и ставило своей целью борьбу за чистоту русского письменного слова. В работе этого общества Тредиаковский принимал самое живое участие.
В 1748 г. Тредиаковский издал трактат «Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи». В этой работе он предлагал реформу русского правописания на фонетической основе, призывая писать «по звонам». Он рекомендует перейти от традиционной орфографии к новой, базирующейся на фонетическом принципе.
«Разговор…» Тредиаковского можно считать первым теоретическим трудом по орфографии. По своему содержанию трактат распадается на три части. В первой дается систематическое описание старой, т.е. церковнославянской орфографии. Во второй части она подвергается подробной критике с точки зрения ряда принципов, выдвинутых Тредиаковским, которые он объявляет руководящими для решения орфографических вопросов, и тем самым намечает основания для новой орфографии. В третьей части он представляет новую, рекомендуемую им орфографию, которая логически вытекает из принципов, им выведенных. Новая орфография описывается Тредиаковским параллельно с анализом физиологии звуков речи и фонетической системы русского языка. Интересно отметить, что трактат написан Тредиаковским по предлагаемой им орфографии. В основу своего рассуждения Тредиаковский положил 11 руководящих принципов («оснований»). Важнейшие из них следующие:
1) каждый звук (буква) должен обладать своим собственным, ему одному принадлежащим звуковым наполнением, отличающим его от других знаков;
2) в алфавите не должно быть лишних букв, т.е. таких, функции которых дублируются другими знаками;
3) в орфографии не должно быть «связных» букв, т.е. букв, отражающих сочетание двух звуков и которые поэтому заменены сочетанием соответствующих двух знаков (¼, k, щ);
4) прописные и строчные варианты букв должны иметь одинаковую графическую форму;
5) русская орфография должна следовать собственной природе русского языка и не считать для себя обязательными правила орфографии других языков;
6) новая азбука должна, сколько возможно, своим внешним видом быть ближе к азбуке латинской, а не греческой, т.к. именно для этой цели она была изобретена и введена в жизнь Петром I.
Также Тредиаковский считал, что буква «ъ» для русского письма не нужна.
Основное теоретическое положение в области орфографии сформулировано Тредиаковским так: «… так писать надлежит, как звон требует». Т.о., Тредиаковский провозглашает фонетический принцип орфографии, хотя в своей собственной орфографии он соблюдал отражение «звонов» только для согласных, а гласные писал «по кореню».
Характеристика церковной орфографии включает в себя также указания на то, что мы сейчас называем морфологическим, или – точнее – фонологическим принципом правописания. Тредиаковский не отличает позиционных чередований (д // т перед глухими: # сладкий // сладость ) от исторических (# пишу // писать, могу // возможность ). Именно это отождествление и лежит в основе выдвигаемого им фонетического принципа. Он решительно восстает против этимологического принципа в орфографии. Беда Тредиаковского заключалась в том, что морфологический, точнее – фонологический, принцип в русской орфографии в большом числе случаев совпадает с этимологическим и именно этим последним и удержан в русской традиции. Т.о., «органическая орфография» Тредиаковского, как он ее называет, оказалась в противоречии с объединенными силами этимологического и фонологического принципов.
Требование «писать по звонам» имеет у Тредиаковского далеко не безусловный характер. Он готов к очень большим уступкам установившемуся обыкновению и поэтому он категоричен лишь в формулировании своего принципа, но не в установлении соответствующих практических орфографических правил. Он готов считаться с теми возражениями против «органической» орфографии, которые основываются на неизбежном появлении графических омонимов: # род – рот, плод – плот . И в собственной своей орфографической практике Тредиаковский непоследователен в отношении применения защищаемого им принципа «органической» орфографии. Он никогда не отражает в своей орфографии оглушения конечных звонких, не отражает оглушения звонких в середине слов в ряде случаев, из которых некоторые оговаривает сам. Само число тех фонетических положений, в отношении которых Тредиаковский применяет свою «органическую орфографию», невелико. Его орфографические нововведения ограничиваются исключительно областью консонантизма и ни в одном пункте не касаются вокализма. Принцип письма «по звонам» не распространяется на такие явления фонетики, которые в его сознании представляются фактами языка не литературного. Тредиаковский отмечает соответствующие явления живой речи, но относит их к дурному, не литературному, не ученому произношению, он ориентируется на книжный выговор.
Взгляды Тредиаковского на реформу русской орфографии разделял и Василий Евдокимович Адодуров (1709–1780), переводчик, языковед, преподававший в университете при Петербургской Академии наук древние и новые языки, риторику, историю и математику, автор русской грамматики, написанной в 1738–1740 гг. по-русски, а затем (в 1750 г.) опубликованной в Стокгольме в шведском переводе под именем переводчика Михаила Грёнинга. Адодурову принадлежит первый опыт кодификации русской речи, т.е. первая грамматика русского языка, предназначенная для самих его носителей. Этой пространной грамматике предшествовал его краткий грамматический очерк русского языка, опубликованный на немецком языке в приложении к Вейсманнову лексикону 1731 г., т.е. описание русского языка, предназначенное не для русской, а для иноязычной аудитории.
Адодуров принимал непосредственное участие в разработке и установлении норм русской орфографии – специальных правил правописания гражданских текстов, противопоставляющих их орфографии церковнославянских книг, и, может быть, даже являлся в 30-е гг. их основным законодателем. Адодуров был активным членом «Российского собрания» при Академии наук, образованного в 1735 г. Он пользовался признанным авторитетом в области кодификации русской литературной речи, именно ему было поручено в 1744 г. преподавать русский язык невесте наследника престола – будущей императрице Екатерине II. В 1733 г. он стал адъюнктом Академии наук, а в 1741 г. оставил академическую службу. Непосредственным стимулом к написанию грамматики могли быть публичные лекции при Академии наук, которые он читал в 1738–1740 гг.
Доломоносовские грамматики русского языка вообще насчитываются единицами, причем все известные до сих пор грамматики написаны на иностранных языках, т.е. предназначены для иноязычного читателя, практически заинтересованного в описании именно живой разговорной речи, а не книжных языковых норм. У Ломоносова были предшественники. Грамматическое описание на родном языке было составлено более чем за 15 лет до появления грамматики Ломоносова. Рукопись грамматики относится к 1738–1740 гг. и она не окончена. Это только первая часть грамматики, посвященная вопросам орфографии и отчасти фонетики. Адодуров начал писать грамматику в 1738 г., закончил в 1740–1741 гг. Грамматика Адодурова не была, по-видимому, известна Ломоносову, но Тредиаковский был с ней знаком и использовал ее. Так же, как и у Ломоносова, научные интересы Адодурова лежали прежде всего в области точных знаний (он был адъюнктом по кафедре высшей математики).
Тредиаковскому принадлежит ряд важных теоретических выступлений по проблемам литературного языка. Оба автора реализуют свои идеи на практике прежде всего в переводческой деятельности. Заявления Тредиаковского и Адодурова обнаруживают в этот период разительное сходство и даже контекстуальную близость: оба автора, по-видимому, работали одно время в непосредственном творческом контакте, и это делает в ряде случаев практически невозможным определение того, кому из них принадлежит та или иная формулировка.
Тредиаковский и Адодуров были знакомы с 1723 г., когда они вместе учились в Славяно-греко-латинской академии. По возвращении из-за границы Тредиаковский в 1730 г. жил некоторое время на квартире у Адодурова, бывшего в то время академическим студентом. По совету Адодурова Тредиаковский опубликовал в качестве приложения к переводу «Езды в остров любви» свои собственные стихотворные опыты. «Разговор…» Тредиаковского явился проводником лингвистических взглядов Адодурова: многие идеи, которые приписывались как современниками, так и позднейшими исследователями, Тредиаковскому, были впервые высказаны Адодуровым.
И для Адодурова, и для Тредиаковского характерна ориентация на устную речь. Адодуров довольно последовательно различает звук («глас») и букву («литеру»).
Именно в его грамматике был впервые – на русской почве – провозглашен фонетический принцип русской орфографии. Адодуров выступает за фонетические написания, отражающие позиционные изменения звуков. И Адодуров, и Тредиаковский считали явлениями одного порядка позиционные фонетические изменения и морфологизированные исторические звуковые чередования. Они стремились приспособить заимствованную из славянской грамматической традиции категорию «изменяемых» согласных к описанию живой русской речи. У обоих орфографическая реформа ограничивается областью консонантизма и почти не касается вокализма. Классификация согласных в грамматике Адодурова не слишком последовательна, т.к. здесь смешаны критерии собственно фонетические и морфонологические и, с другой стороны, критерии синхронного и диахронного плана. Эта непоследовательность объясняется стремлением автора сочетать традиционную схему классификации согласных (заимствованную, главным образом, из грамматики Смотрицкого) с более новым и оригинальным подходом, направленным на синхронное описание фонетических явлений.
В грамматике Адодурова настойчиво проводится мысль об условном характере как произносительной, так и орфографической нормы. Первостепенное значение придается «общему (обыкновенному) употреблению» как критерию языковой правильности. «Общее употребление» у обоих противостоит простонародному языку (Тредиаковский называет его «подлым, мужицким»), «общее употребление» не равно просторечию. Выражение «народное употребление» используется как заведомо негативная характеристика, и этим объясняется, что к «народному употреблению» относятся собственно литературные по своему происхождению явления (характерные, однако же, для старого литературного языка).
Адодурова и Тредиаковского объединяет представление о самостоятельности и независимости гражданской орфографии, связанное с отчетливым стремлением противопоставить русское и церковнославянское правописание, подобно тому, как противопоставлены русская гражданская и церковная азбука; именно отсюда и стремление к радикальной перестройке гражданской орфографии. Это проявляется при написании заимствованных слов, которое, по их мысли, должно основываться на произношении соответствующих слов, но не на орфографии того языка, откуда они были заимствованы, как это характерно для церковнославянской письменности. Церковнославянская орфография ориентируется на транслитерацию, а противопоставляемая ей русская гражданская орфография – на транскрипцию. Грамматика Адодурова характеризуется отчетливым противопоставлением церковнославянских и русских форм и явной ориентацией на собственно русскую языковую стихию (противопоставлены местоимения этот – сей , глагольные приставочные формы «воз- // вз-», «из- // вы-», «пре- // пере-» ). Адодуров и Тредиаковский стремились определить специальные нормы светского книжного языка, противопоставленного старославянскому языку. Адодуров последовательно отстаивал самостоятельные права русского языка. «Славенский» и «русский» языки для Адодурова являются двумя равноправными языками, причем собственные его усилия были всегда направлены на описание именно русских языковых норм. Адодуров отстаивал права собственно великорусской языковой нормы в условиях моды на украинизмы.
Адодуров призывает исключить лишние буквы из алфавита, и с этих позиций критикует русскую гражданскую азбуку. И Адодуров и Тредиаковский считают возможным исключить из гражданской азбуки букву «¬». Рассмотрение вопроса о букве «¬» дает им возможность противопоставить не только правописание, но и произношение грецизмов в церковном и светском языке. Они стремились определить специальные нормы светского книжного языка, противопоставляемого церковнославянскому языку и в принципе ему равноправного. Адодуров выступал противником буквы «ъ» и предлагал исключить ее из гражданской азбуки, а в середине слов заменить его апострофом или дефисом. «Ъ» не является буквой в собственном смысле этого слова, а знаком. Но «ь» Адодуров считал буквой. Он предлагал ввести в алфавит особую букву для взрывного «г» в противоположность фрикативному. Это предложение обусловлено стремлением передавать некнижные – собственно русские – формы, не совпадающие с церковнославянскими и фонетически им противопоставленные. Букву «з» он предлагал заменить на «s» , «и» – на «ï» , ¬ – на «ф» .
Тредиаковский и Адодуров сознательно ориентируются на западноевропейскую языковую ситуацию, стремятся перенести ее на русскую почву, т.е. создать здесь литературный язык того типа, что западноевропейские литературные языки. Владение западноевропейскими языками оказывается необходимым условием правильности русской речи. Тредиаковский превозносит достоинства французского языка как «приятнейшего, сладчайшего, учтивейшего и изобильнейшего» из всех европейских языков, и призывает к переводам с европейских языков как средству очищения русского языка.
Деятельность Тредиаковского и Адодурова была тесно связана с Российским собранием при Академии наук, которое было организовано в 1735 г. по образцу Французской Академии и должно было выполнять те же задачи.
Ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию обусловливает у Тредиаковского и Адодурова требование сближения литературного языка с разговорной речью. Это выражается в принципиальной установке на «употребление», именно они впервые в России начинают говорить о «языковом употреблении» (применительно к проблемам литературного языка), т.е. вводят это слово как лингвистический термин.
Установка на употребление обусловливает требование писать, как говорят (которое у Тредиаковского и Адодурова распространяется даже на орфографию) и протест против «глубокословныя славенщизны», т.е. против славянизмов в той мере, в какой они ощущаются как таковые. Фонетическое письмо для них служит целям размежевания церковнославянского и русского языков, в целом ряде случаев давая возможность противопоставить написание русских и церковнославянских форм. В «Предисловии» к «Езде в остров любви» речь идет о языке, который призван обнаруживать новые жанры художественной литературы, связанные с западноевропейским культурным влиянием.
Предисловие Тредиаковского и грамматический очерк Адодурова написаны почти одновременно в условиях непосредственного творческого контакта обоих авторов с одних и тех же позиций. Они дополняют друг друга, демонстрируя разные аспекты одной языковой программы, соответственно они и должны рассматриваться вместе – как теоретический трактат и его практическая реализация.
Адодуров регулярно подчеркивает, что это грамматика именно русского, а не церковнославянского языка, и вполне последовательно отмежевывается от церковнославянизмов, вообще упоминания о церковнославянском языке в этой грамматике даются, как правило, в отрицательном контексте и имеют характер превентивного предупреждения, чтобы предупредить читателя, что им не следует пользоваться. Оппозиция русского и церковнославянского трактуется как противопоставление «естественного» употребления и искусственных книжных норм. Церковнославянский язык для Адодурова и Тредиаковского – это прежде всего другой язык, отличный от русского.
Первый прецедент апелляции к вкусу как к эстетическому критерию, которым следует руководствоваться в языковом нормировании – содержится в «Предисловии» Тредиаковского. Понятие «изящества (элегантности)» или «красоты» речи явно связывается с критерием употребления, т.е. таким образом расцениваются именно употребительные формы. «Нежность» французского или русского языка определяется опорой на естественное употребление: эти языки являются «нежными» постольку, поскольку они выступают как средство живого человеческого общения. «Нежность» у Тредиаковского соотносится как с изяществом, так и с естественностью: критерий красоты, изящества речи связывается с естественным, разговорным началом в языке. Установка на употребление, т.е. на usus loquendi, и отказ от славянизмов выступают как наиболее характерные черты концепции литературного языка у Адодурова и Тредиаковского в 1730-е гг. Оппозиция церковнославянского и русского языков оценивается в эстетических категориях, и именно эта эстетическая оценка выдвигается как главная причина, побуждающая к переходу на русский язык.
Тредиаковский относит славянизмы к разряду поэтических «вольностей», т.е. отклонений от нормы, допустимых только в поэзии, но невозможных в прозе. Ориентация литературного языка на разговорную речь у него распространяется только на прозу. Противопоставление стихов и прозы фактически проводится в жизнь уже в переводе «Езды в остров любви». Адодуров же возражает против славянизмов как в прозе, так и в стихах.
Отказ от славянизмов и установка на употребление органически связаны в программе Тредиаковского. Установка на употребление имеет у Тредиаковского в большей степени теоретический и декларативный характер: установка на употребление в принципе предполагает кодификацию разговорной речи, однако в данном случае она в основном предшествует такой кодификации. В этих условиях ориентация на употребление осуществляется скорее за счет отказа от каких-то специфических книжных средств выражения, чем за счет восприятия реальной разговорной речи – иными словами, она реализуется скорее в негативных, чем в позитивных формах. Славянизмы постольку, поскольку они отмечены как типовые в языковом сознании, – и воспринимаются как специфически книжные средства выражения; напротив, немаркированные славянизмы оказываются стилистически нейтральными формами, т.е. не расцениваются как книжные элементы. Отступление от книжного языка и осмысляется как ориентация на разговорную речь. Она в языковой практике реализуется как отказ от специфических признаков церковнославянского языка и не касается тех форм, которые неактуальны для данной дихотомии, т.е. не соотносятся в языковом сознании с противопоставлением церковнославянской и русской языковой стихии. Например, противопоставление усеченных и неусеченных причастных форм. Усеченные формы маркированы как специфически книжные, неупотребительные в разговорной речи.
Тредиаковский, вопреки своим декларативным заявлениям, совсем не всегда основывается на реальном употреблении; напротив, в некоторых случаях он пытается регламентировать это употребление, т.е. не только определить нормы русской разговорной речи, но и в какой-то мере предписать нормы правильного употребления. Тредиаковский ориентируется не столько на реальное, сколько на идеальное употребление. Тредиаковский имеет в виду не то, как говорят, а то, как должны говорить.
Тредиаковский пишет о непонятности церковнославянского языка. Он воспринимает церковнославянский и русский языки как разные и в принципе равноправные по своей функции языки. Церковнославянский предстает у Тредиаковского и Адодурова как чужой, иностранный язык по отношению к русскому, как латынь по отношению к французскому или итальянскому языку. Они видели в южных славянах живых носителей церковнославянского языка. Тредиаковский и Адодуров воспринимают церковнославянский язык как праславянский или общеславянский, т.е. видят в нем источник всех славянских языков. Они непосредственно соотносят церковнославянский и южнославянские языки. Они видят в церковнославянском языке кодифицированную форму южнославянских говоров, одновременно усматривая в нем фиксацию древнейшего состояния всех славянских языков.
Тредиаковский выступает против исключительной роли латинского языка как языка науки и образованности. Он считал, что русский язык должен следовать примеру французского языка, которому удалось утвердиться в качестве национального языка в самых разных областях культуры. Возможность опоры на употребление и определяет, с точки зрения Тредиаковского, преимущество живых национальных языков (французского, русского) перед мертвыми (латинским, церковнославянским), где есть только правила, но нет критерия употребления. Тредиаковский говорит в «Слове о витийстве» 1745 г. о том, что литературный язык как язык культурного общения должен совпадать с разговорным, одновременно подчеркивая полифункциональность литературного языка. «Употребление» у Тредиаковского и Адодурова признается более важным критерием при установлении языковой нормы, чем какие бы то ни было рационально обоснованные правила. Под общим употреблением понимается не разговорная речь вообще, а речь светского общества как культурной элиты. Образцом для Тредиаковского служит ситуация во Франции, и он стремился применить к русским условиям французскую языковую политику. Признается необходимость изящного владения разговорным языком, которое и обеспечивает «чистоту и приятность» литературной речи. Новый литературный язык, противопоставленный церковнославянскому и основывающийся на разговорном употреблении, в принципе связывается с галантной культурой, с «политическим» обхождением, с ориентацией на Францию.
Тредиаковский стремится освободить русскую орфографию от этимологических написаний, которые характерны для церковнославянской орфографии: вообще принцип фонетического письма провозглашается Тредиаковским именно для русского языка – тем самым русский язык, опирающийся на употребление и связанный с фонетическим правописанием, оказывается противопоставленным церковнославянскому языку, основывающемуся на правилах и связанному с этимологическими написаниями. Принцип фонетической орфографии может быть связан с прециозной культурой, с лингвистическими идеями французских прециозниц, которые предлагали писать слова так, как они произносятся. Тредиаковский ориентирует литературный язык на женские языковые нормы.
С началом царствования Елизаветы Петровны отчетливо обозначаются проблемы нового национального самосознания (национальной идентичности). В 40-х – 50-х гг. XVIII в. усиливается борьба с засилием иностранцев в правительственном аппарате, антинемецкое движение оказалось в моде в первое время после переворота, возведшего на престол Елизавету. Наблюдалось стремление ограничить увлечение т.н. «европеизмами», избежать коверканья русского языка на французский и немецкий лад. Русский язык может выполнять функции литературного языка и при некотором усовершенствовании сделает это не хуже, чем латынь или любой из европейских языков. Поэтому актуальным становится вопрос не о равноправии нового литературного языка с традиционным книжным (церковнославянским) языком, а о его равноправии с другими культурными языками Европы, т.е. о его способности выражать все разнообразие понятий и явлений европейской культуры. В 40-е – 50-е гг. начинается восстановление литературных прав церковнославянского языка. В то же время становится все более ясным отрыв высоких стилей литературы от русского национального языка.
Во второй половине 1740-х гг. Тредиаковский резко меняет свою концепцию литературного языка. В 1750 г. он в «Письме от приятеля к приятелю» критикует Сумарокова за использование просторечных выражений, предлагая в ряде случаев использовать соответствующие по смыслу слова церковнославянского происхождения. Ориентация на церковнославянский язык осуществляется как в плане выражения, так и в плане содержания: церковные книги предстают для Тредиаковского не только как регулятор стилистической правильности, но и как критерий, позволяющий судить о правильном употреблении того или иного слова. С точки зрения Тредиаковского именно церковные книги определяют подлинное, т.е. правильное значение слова, и он прямо ссылается на богослужебные тексты. Он говорит о церковнославянском языке как о «мере чистоты» русской речи, источнике русского литературного языка. Он объявляет церковные книги классическими, т.е. образцовыми и вместе с тем учебными книгами. Он подчеркивает полную понятность церковнославянского языка. Если раньше точкой отсчета для Тредиаковского являлся русский язык, то теперь в этом качестве для него выступает церковнославянский язык. Он подчеркивает необходимость «выбора слов» и правильного «избрания речей» в высоких жанрах. Славянизация языка признается непременным атрибутом высоких, серьезных жанров, именно подобные жанры и оказываются теперь в центре внимания Тредиаковского.
Например, в 1754 г. Тредиаковский выступает с решительным осуждением легкой, игровой поэзии, «возбуждающей страсти». Таким стихам он противопоставляет философскую, метафизическую поэзию, связывая ее как с античной, так и с церковной традицией.
Он, несмотря на крайнюю нужду в деньгах, скупает экземпляры «Езды в остров любви» и уничтожает их.
Он стал ревностным защитником православия, выступает против присутствия в России иноверцев. Тредиаковский считает недопустимыми использование цитат из Священного Писания в низком жанре (комедии) и мифологическую образность в высоких жанрах (ода), которые приводят к непозволительной контаминации христианских и языческих понятий.
Тредиаковский выступает с позиций языкового пуризма. Он отвергает фигуральное, метафорическое употребление слов, обозначающих сакральные материи.
Подход раннего Тредиаковского к литературному языку соответствует подходу карамзинистов, а подход их литературных противников-«архаистов» (Шишкова, Боброва) соответствует позиции того же Тредиаковского в поздний период. В первый период Тредиаковский ориентировался на западноевропейскую языковую ситуацию, а во второй период он исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее – в условиях церковнославянско-русской диглоссии. Тредиаковский стремится теперь воссоздать ситуацию диглоссии в рамках гражданского языка. Литературный язык понимается Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу; он искусственно создается, отталкиваясь от разговорного языка.
Он настойчиво подчеркивает преимущества русского языка по сравнению с французским. Теперь он сравнивает русский литературный язык с классическими языками древности (с латинским и греческим). Он настойчиво подчеркивает специфику русской языковой ситуации, отличающую ее от ситуации в странах Западной Европы.
Тредиаковский, Кантемир и Ломоносов претерпевают аналогичную эволюцию в своих взглядах, связанную с усилением националистических тенденций после переворота 1741 г., но именно у Тредиаковского она находит наиболее четкое и последовательное выражение.
В этот период Тредиаковский не противопоставляет славенский и российский языки, но подчеркивает их общность, вводит для русского литературного языка название «славенороссийский». Он считает теперь, что церковнославянский и русский – это две разновидности одного языка, различающиеся лишь на поверхностном уровне. Расхождения между ними объясняются исключительно иноязычным влиянием. Признание специфики русской языковой ситуации обусловило пересмотр концепции литературного языка. Теперь Тредиаковский является горячим сторонником славянизации литературного языка; если раньше славянизмы объявлялись поэтическими вольностями, т.е. рассматривались как допустимое отклонение от нормы, то теперь таким образом трактуются русизмы. Славянизация литературного языка может проявляться в отказе от заимствований.
Ранее Тредиаковский выступал как проводник и проповедник западноевропейского влияния, а теперь западноевропейское влияние признается вредным и опасным для русского литературного языка – спасение от него Тредиаковский видит в обращении к церковнославянской традиции.
Стремление избежать иноязычных заимствований обусловило процесс калькирования и появление неологизмов, которые закономерно оформляются при этом по церковнославянским моделям.
Церковные книги рассматриваются Тредиаковским как авторитетные в стилистическом отношении. В них Тредиаковский видит неисчерпаемый источник потенциального обогащения русской лексики.
Теперь Тредиаковский считает, что литературное употребление должно быть основано «на разуме», т.е. на рациональных правилах. Нужно выбирать то употребление, которое согласуется с разумом, а если разум не дает достаточного основания для выбора того или иного варианта, ставится вопрос о каком-то ином критерии, рекомендуется следовать употреблению просвещенных (ученых) людей. Разумное употребление не предполагает ориентацию на рациональные грамматические правила.
Тредиаковский говорит не о социолингвистическом противопоставлении, не о противопоставлении «благоразумного» и обыкновенного употребления, которое обусловливает различение литературного и разговорного языка. Теперь он ориентируется не на светских, а на ученых людей. Такие стилистические характеристики, как «благородный», «простонародный», «подлый» относятся у Тредиаковского к противопоставлению книжного (литературного) и разговорного языка, но не имеют отношения к социолингвистическому расслоению общества, т.е. к социальной диалектологии.
Тредиаковский разработал систему фонетической транскрипции. В работе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) он сформулировал принципы русского силлабо-тонического стихосложения и впервые определил динамическую природу русского ударения и указал на несвойственность русскому языку долготных различий гласных.
В споре с ломоносовскими принципами языкового строительства он занимал консервативную позицию, защищал церковнославянскую традицию в русском письменном языке, возражая против низкого стиля ломоносовской теории.
Проблема синтеза разнородных языковых начал по-прежнему оставалась актуальной.
В настоящее время главным учреждением, занимающимся кодификацией языка, является Институт русского языка Академии наук РФ им. В.В. Виноградова. В нем работает телефонная справочная служба, составляются самые авторитетные толковые, орфографические, орфоэпические и другие словари, в том числе переиздания знаменитого словаря Ожегова, к которому мы обращаемся, когда хотим узнать значение какого-либо слова. Институтом поддерживается сайт www . gramota . ru , где можно получить любую справку, касающуюся норм русского языка, и найти много дополнительной информации (о происхождении слов и названий, об истории и современном состоянии русского языка и т.п.).
Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются кодификаторы сейчас, «вымирание» элитарного типа речевой культуры. Именно на элитарный тип привыкли ориентироваться специалисты при установлении норм. В наше время говорящих элитарного типа – единицы. Большинство культурных, грамотных людей, даже тех, кого мы безоговорочно готовы признать языковыми авторитетами, принадлежат к так называемому среднелитературному типу речевой культуры. Носитель языка среднелитературного типа не делает грубых ошибок в произношении, употреблении, образовании форм слов и в построении предложений, обладает достаточно богатым словарем, умеет говорить и писать правильно, понятно и выразительно, понимать сложные тексты, следует речевому этикету. Но в речи таких говорящих, особенно спонтанной, неподготовленной, многие кодифицированные нормы заменяются на узуальные. Вместо кодифицированного в словарях обеспЕчение , такой говорящий скажет обычно обеспечЕние (даже зная, что это неправильно), вместо надеть туфли – одеть туфли (потом человек может спохватиться и исправиться) и т.п. Создается разрыв между кодифицированной нормой (предписаниями словарей и справочников) и нормой узуальной, сложившейся в употреблении (подчеркнем: в речи образованных, культурных людей). Возникает, соответственно, вопрос: не следует ли отказаться от «мертвых» кодифицированных норм и узаконить нормы «живые», узуальные. Это невозможно. Невозможно точно определить, что значит «большинство образованных, грамотных людей»: какое большинство? как его подсчитать? каких людей признать «образованными, грамотными» - всех, кто имеет высшее образование? как быть с невольными ошибками спонтанной речи, оговорками, описками? Кроме того, радикальная замена кодифицированной нормы на узуальную нежелательна потому, что она резко увеличит разрыв между языком поколений, что затруднит передачу информации и породит культурные конфликты. Поэтому кодификаторы языка, по самой сути своей специальности, обязаны быть консерваторами, обязаны чутко прислушиваться к новым тенденциям в употреблении и при этом немного притормаживать их легализацию. Это вполне объяснимо: представьте, что было бы, если бы правила орфографии и пунктуации менялись несколько раз за время вашего обучения в школе или если бы каждые пять-десять лет радикально менялись бы нормы произношения!
Подведем итоги.
Культура речи – умение говорить и писать правильно, понятно, выразительно. Критерии правильности, понятности и выразительности различаются в разных сферах использования языка.
Основой культуры речи служит соблюдение норм литературного языка. Кодифицированные нормы едины и обязательны для всех носителей русского языка, устанавливаются специалистами-филологами и фиксируются в справочниках и словарях. В речевой практике образованных носителей языка складываются узуальные нормы , которые могут конкурировать с кодифицированными. Широко распространенные узуальные нормы, не противоречащие духу языка и здоровым тенденциям его развития, могут со временем кодифицироваться.
Кодифицированный литературный язык существует в нескольких стилевых разновидностях, каждая из которых обслуживает свою функциональную сферу: официально-деловую, научную, публицистическую, бытовую коммуникацию, художественную литературу. За пределами литературного языка – диалекты, жаргоны, просторечие – сферы ненормируемого употребления.
НОРМА ЯЗЫКОВАЯ, совокупность языковых средств и правил их употребления, принятая в данном обществе в данную эпоху. Норма противопоставлена системе, понимаемой как присущие тому или иному языку возможности выражения смыслов. Далеко не все из того, что «может» языковая система, «разрешается» языковой нормой. Например, система русского языка предусматривает образование форм 1-го лица единственного числа от всех глаголов, способных иметь личные формы; однако норма «не разрешает» образовывать форму 1-го лица от глаголов победить, убедить (*победю, *побежду, *убедю, *убежду) и «предписывает» обходиться описательными оборотами: сумею (смогу) победить (убедить), одержу победу и т.п.
Процесс фиксации нормы, т. е. внесение определенных правил употребления языковых средств в словари и справочники, называется кодификацией. Языковая система имеет уровневое строение, в зависимости от уровня языка выделяются различные типы норм и соответственно типы словарей: нормы произношения и ударения фиксируются в орфоэпических и акцентологических словарях, нормы словоупотребления – в толковых и фразеологических словарях, словарях синонимов, антонимов, паронимов и т. д., морфологические и синтаксические нормы – в специальных справочниках и грамматиках.
8. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы».
(поэтический язык), наднациональный тип языка, многие характерные черты которого, однако, выявляются только в рамках творчества писателей определённой нации и только при сравнении с нормами и особенностями соответствующего национального языка. Язык любой нации проявляет себя двояко. Во-первых, он используется при общении людей в быту – и в этом случае оказывается разговорным, «живым» (т. е. относительно свободным от многих литературных норм). Во-вторых, его применяют во всех видах письменных текстов, и это применение накладывает на язык ряд ограничений, иначе говоря, нормирует его, чтобы носители языка, представляющие население различных регионов страны, разные социальные группы (в т. ч. возрастные и профессиональные), могли понимать друг друга. Такой язык оказывается литературным, он стремится стать тем идеальным языком, использовать который было бы удобно обществу в целом. Элементы литературного языка составляют основу национальной речи. Они применяются и в быту, но уже в соединении с элементами разговорного языка, использование которых противоречит общелитературным стилистическим нормам. Так, литературная лексика в пределах обыденной устной речи может сочетаться с диалектизмами, жаргонизмами, просторечиями
. Следовательно, границы разговорного языка существенно шире границ литературного.
В свою очередь границы языка поэтического оказываются ещё более широкими. Основу поэтического языка, так же как и разговорного, составляют элементы языка литературного. Но язык художественной литературы далеко не всегда обязывает писателей следовать нормам
литературного стиля речи. Например, каждый автор волен составлять собственный поэтический словарь, включая в него не только литературную, но и разговорную, иноязычную и др. лексику. Этим язык художественной литературы отличается от языка литературного.
Вместе с тем он отличен и от языка разговорного. Прежде всего, в поэтическом языке авторы эксплуатируют разговорные элементы с оглядкой на литературные речевые нормы. Собственная речь каждого настоящего писателя литературна. Но, являясь создателем эпического произведения, автор может наделить разговорной речью своего персонажа не только для того, чтобы дополнить его художественный образ, но и для того, чтобы создать художественный образ языка, используемого той частью общества, типичным представителем которой является данный персонаж.
Кроме того, поэтический (язык худ. литературы) язык предоставляет писателю более широкий арсенал речевых средств, применение которых не предписано правилами национального литературного языка. Так, автор-фантаст может создать языки несуществующих наций, неземных или волшебных существ, и т. д. Например, Дж. Р. Р. Толкин
разработал в своих произведениях лексику и правила словообразования и грамматической связи языков населяющих его миры эльфов, гномов и орков. В пределах литературного языка на каждом этапе его развития существуют слова, которые современное общество опознает как неологизмы
, но автор художественных произведений, описывающий мир будущего и «создающий» ещё не созданные человечеством предметы, изобретает неологизмы индивидуальные. Поэтому можно заключить, что в художественной литературе наряду с реальным используется и потенциальный лексический запас национального языка.
Если нормированность, «правильность» литературного языка – его несомненное достоинство, то проявление подобных черт в языке поэтическом – явный недостаток. Язык художественной литературы ориентирован на всевозможные отклонения от известных норм, т. к. каждый писатель стремится выработать индивидуальный речевой стиль. Утрата авторским языком индивидуальных примет равна утрате художественности. Любое отступление писателя от правил литературного языка заставляет читателей внимательнее следить за его речью, принуждает их к медленному чтению. Так, ранние стихи В. В. Маяковского
и Б. Л. Пастернака
изобилуют яркими метафорами
, некоторым читателям стиль каждого из поэтов может показаться тёмным, но именно нетривиальное словоупотребление определяет необычность созданных ими образов. Итак, язык художественной литературы допускает отклонения от общелитературных норм, и они могут проявляться на всех уровнях языка. Кроме того, язык художественной литературы как таковой является языком наднациональным: к поэтическому языку относятся и все ритмико-интонационные явления, в частности связанные с формой стиха (просодия в некоторых памятниках мировой поэзии подчиняется не национальным языковым нормам, а вненациональным стиховым формам).
1. Традиционность и письменная фиксация. Язык вообще традиционен по своей природе. Каждое новое поколение совершенствует литературный язык, берет из речи старших поколений те средства выражения , которые наиболее соответствуют новым социально-культурным задачам и условиям речевой коммуникации. Этому способствует фиксация в текстах (письменных, отчасти устных).
В композиционно-речевой структуре текстов складываются принципы внутренней организации языковых элементов и приемы их использования в связи с задачами данного текста, в зависимости от функционального назначения стиля , которому принадлежит текст.
Традиционность способствует формированию известных типов тестов, известных способов организации речевых средств данного литературного языка.
2. Общеобязательность норм и их кодификация.
В рамках литературного языка все его единицы и все функциональные сферы (книжная и разговорная речь) подчиняются системе норм.
3. Функционирование в пределах литературного языка разговорной речи наряду с книжной речью.
Взаимодействие этих двух основных функционально-стилевых сфер литературного языка обеспечивают его социально-культурное назначение: быть средством общения носителей литературного языка, основным средством выражения национальной культуры.
4. Разветвленная полифункциональная система стилей . Функционально-стилевое расслоение литературного языка обусловлено общественной потребностью специализировать языковые средства, организовать их особым образом для того, чтобы обеспечить речевую коммуникацию носителей литературного языка в каждой из сфер человеческой деятельности. Функциональные разновидности литературного языка реализуются в письменной и устной форме.
6. Литературному языку присуща гибкая стабильность . Без нее невозможен обмен культурными ценностями между поколениями носителей данного языка. Стабильность литературного языка обеспечивается:
1) поддержанием стилевых традиций благодаря письменным текстам;
2) действием общеобязательных кодифицированных норм, которые служат надежным регулятором синхронного существования и развития литературного языка.
Стабильности русского языка способствуют также его единство, целостность, отсутствие местных вариантов.
Строение литературного языка
СРЛЯ состоит из двух систем, каждая из которых глубоко своеобразна и не похожа друг на друга. Каждая из этих систем едина, целостна, самодостаточна, объединена своими законами, но тем не менее это две подсиситемы одной системы. Эти две системы – кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык (РЯ). РЯ – некодифицированный, для него не существует словарей, справочников, учебников. Он усваивается только путём непосредственного общения между культурными людьми, ведь РЯ – одна из двух систем, составляющих литературный (т.е. культурный) язык, поэтому его носители – те же лица, которые владеют КЛЯ. Основное отличие РЯ от КЛЯ – неофициальные отношения между говорящими. В РЯ нормы не так строго регламентированы, как в КЛЯ, они допускают большее количество вариантов.
КОДИФИКАЦИЯ ЯЗЫКА
Литературный язык – это явление культуры, которые всегда были очень хрупки и уязвимы, они требуют охраны и попечения о них. И общество сознательно заботится о сохранности языка. Сознательная забота о языке называется кодификацией языка. Кодификация - значит упорядочение, приведение в единство, в систему, целостный непротиворечивый свод (кодекс).В языке кодификация – тоже приведение в единство, в порядок, отторжение всего чуждого литературному языку и принятие всего, что его обогащает.
Средства кодификации - это словари, справочники по языку, учебники для средней школы, научные лингвистические исследования, устанавливающие норму. Также это пример людей, безукоризненно владеющих русской речью (талантливых писателей, учёных, журналистов, артистов, дикторов); произведений -художественных, научных, публицистических, - обладающих высоким общественным и культурным авторитетом.
Языковая норма
Языковая норма – это общепринятые в языковой практике образованных людей правила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, а также написания (орфографические правила).
Языковая норма складывается исторически, определена, с одной стороны, особенностями национального языка, с другой – развитием общества и его культурой.
Норма стабильна для определенного периода и в то же время динамична – изменчива во времени. Будучи достаточно устойчивой и стабильной, норма как категория историческая подвержена изменениям, что обусловлено самой природой языка, находящегося в постоянном развитии. Возникающая в этом случае вариантность не разрушает нормы, а делает её более тонким инструментом отбора языковых средств.
В соответствии с основными уровнями языка и сферами использования языковых средств выделяются следующие типы норм:
1) орфоэпические (произносительные ), связанные со звуковой стороной литературной речи, её произношением;
2) морфологические , связанные с правилами образования грамматических форм слова;
3) синтаксические, связанные с правилами употребления словосочетаний и синтаксических конструкций;
4) лексические, связанные с правилами словоупотребления, отбора и использования наиболее целесообразных лексических единиц.
Языковая норма имеет следующие особенности:
1) устойчивость и стабильность , обеспечивающие равновесие системы языка на протяжении длительного времени;
2) общераспространённость и общеобязательность соблюдения нормативных правил (регламентаций) как взаимодополняющие моменты «управления» стихией речи;
4) культурно-эстетическое восприятие (оценка) языка и его фактов; в норме закреплено всё лучшее, что создано в речевом поведении человечества;
5) динамический характер (изменяемость), обусловленный развитием всей системы языка, реализующейся в живой речи;
6) возможность языкового «плюрализма» (сосуществование нескольких вариантов, признающихся нормативными) как следствие взаимодействия традиций и новаций, стабильности и мобильности, субъективного (автор) и объективного (язык), литературного и нелитературного (просторечие, диалекты).
Норма может быть императивной, т.е. строго обязательной, и диспозитивной, т.е. не строго обязательной. Императивная норма не допускает вариантности в выражении языковой единицы, регламентируя только один способ её выражения. Нарушение этой нормы расценивается как слабое владение языком (например, ошибки в склонении или спряжении, определении родовой принадлежности слова и др.). Диспозитивная норма допускает вариантность, регламентируя несколько способов выражения языковой единицы (например, творог и творог и т.д.).
Нормативность, т.е. следование нормам литературного языка в процессе общения, справедливо считается основой, фундаментом речевой культуры.
ВАРИАНТ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ
Будучи достаточно устойчивой и стабильной, норма как категория историческая подвержена изменениям, что обусловлено самой природой языка, находящегося в постоянном развитии. Возникающая в этом случае вариантность не разрушает нормы, а делает её более тонким инструментом отбора языковых средств.
Как отмечалось, у стойчивость норм относительна, т.к. некоторые из них медленно, но непрерывно изменяются под влиянием разговорной речи. Изменения в языке влекут за собой появление вариантов некоторых норм. Это значит, что одно и то же грамматическое значение, одна и та же человеческая мысль могут быть выражены неодинаково.
Колеблется и изменяется норма в результате взаимодействия разных стилей, взаимодействия систем языка и просторечия, литературного языка и диалектов, взаимодействия нового и старого.
Эти колебания создают вариантные нормы. Массовая распространенность варианта, его регулярное употребление и взаимодействие с аналогичными образцами литературного языка постепенно превращает вариант в норму. Возможны три основные степени соотношения «норма – вариант»:
1) норма обязательна, а вариант запрещён;
2) норма обязательна, а вариант допустим, хотя и не желателен;
3) норма и вариант равноправны.
Вариантность в употреблении одной и той же языковой единицы часто является отражением переходной ступени от устаревшей нормы к новой. Варианты, видоизменения или разновидности данной языковой единицы могут сосуществовать с её основным видом.
Различают равные и неравные варианты литературных норм. При неравенстве вариантов главным считается тот, который можно использовать во всех стилях речи. Второстепенным, неглавным признаётся вариант, употребление которого ограничено каким-либо одним стилем.
По принадлежности к языковым типам единиц выделяются следующие варианты:
1) произносительные (булочная-булошная), иначе-иначе;
2) словоизменительные (тракторы-трактора, в цехе-в цеху, гектар-гектаров);
3) словообразовательные (резание-резка, набивание-набивка);
4) синтаксические (ехать на трамвае-ехать трамваем, ждать самолёта-ждать самолёт;
5) лексические(импорт-ввоз, экспорт-вывоз, кинофильм-кинолента).
Норма, будучи общеязыковой , требует к себе активного отношения. Выдающийся филолог Л.В.Щерба расценивает варианты и отступления от нормы как высший критерий в оценке культуры речи: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то начинает он чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее».
Следовательно, чтобы отступать от нормы, надо знать ее, надо понимать, от чего допустимо отступать, например:
люди на конь вместо коней.
Помимо внутренних признаков, носящих преимущественно потенциальный характер, литературная норма характеризуется и со стороны ее внешних, социальных свойств.
Обязательность и осознанность являются важными и вместе с тем исторически обусловленными признаками языковой нормы, а степень выраженности данных признаков различна для разных языковых идиомов. Наиболее отчетливо внешняя (социальная) сторона нормы проявляется в факте сознательной нормализации, который рассматривается многими лингвистами как специфический признак литературной нормы, отличающий ее от норм других «форм существования» языка.
Принимая данный тезис, нужно иметь, однако, в виду два момента: 1) наличие более или менее осознанного отбора и регламентации отличает нормы литературного языка от норм других форм существования языка (диалект, обиходно-разговорный язык); 2) усиление процессов сознательного отбора, находящее выражение в кодификации норм и других организованных и целенаправленных формах воздействия общества на язык (деятельность различных языковых обществ, издание специальной литературы по «культуре речи»), является специфическим признаком литературного языка национального периода.
Нормализационные процессы представляют собою единство стихийного отбора и сознательной кодификации явлений, включаемых в норму. Именно это сочетание спонтанных и регулируемых процессов обеспечивает выделение на определенном этапе развития языка некой совокупности «образцовых» реализаций языковой системы, т. е. ведет в конечном итоге к установлению литературной нормы. По мере развития литературного языка роль целенаправленного отбора, видимо, возрастает, а формы сознательного воздействия постепенно становятся все более разнообразными и научно обоснованными.
Однако сознательной оценке и закреплению норм в большинстве случаев, по-видимому, предшествуют спонтанные процессы отбора языковых явлений, включаемых в литературную норму. Так, по мнению Б. Гавранка, процессы кодификации лишь подкрепляют извне стабильность норм, достигаемую в самом функционировании языка. Той же точки зрения придерживается и Г. В. Степанов: определяя общее содержание нормализационных процессов как «выбор одной из возможностей реализаций, предоставляемых системой языка», он утверждает, что «объективная норма... всегда предшествует элементу оценки, т. е. аксиологической норме».
Рассматривая нормализацию литературного языка как сочетание стихийного и сознательного отбора и постулируя первичность спонтанного отбора «нормативных» реализаций, следует отметить вместе с тем избирательное отношение нормализационных процессов в целом к узусу. Если для нестандартных естественных («органических») идиомов норма практически опирается на некоторый «усредненный» коллективный узус, то для формирующегося национального литературного языка расхождение нормы и узуса — особенно на ранних этапах развития — может оказаться весьма значительным.
Литературная норма обычно опирается в период своего формирования лишь на некоторую часть узуса, ограниченного определенными территориальными, социальными и функциональными рамками. Это значит, что в качестве основы литературных норм выступает язык какой-то определенной территории страны, язык определенных слоев общества и определенных видов и форм общения. Однако это избирательное отношение нормы литературного языка к узусу проявляется не только в ее опоре лишь на некоторую часть узуса.
В конечном итоге норма представляет собою сложную совокупность языковых средств, объединенных в литературном языке в результате разнообразных процессов отбора, и в этом смысле она всегда — в большей или меньшей степени — отклоняется от исходного узуса.
Оценивая сравнительную роль стихийного и сознательного отбора, совершающегося в процессе нормализации отдельных литературных языков, можно утверждать, что сознательные усилия общества тем активнее, чем сложнее исторические условия формирования литературных норм. Так, например, сознательный отбор усиливается в тех случаях, когда в норме литературного языка объединяются черты различных диалектов или разных литературных вариантов. Подобная ситуация наблюдается в литературных языках с исходной гетерогенной основой, а также в языках, где первичная гомогенная основа подвергается в процессе развития литературного языка известным преобразованиям, также ведущим к объединению в литературной норме разнодиалектных по происхождению явлений.
Не менее сложной для процессов нормализации является и ситуация, когда литературный язык выступает в виде двух (или более) нормированных вариантов, между которыми могут наблюдаться большие или меньшие расхождения (ср., например, ситуацию в Албании). В этих случаях усилия общества могут быть направлены на сближение двух норм путем различных языковых реформ, хотя успех их относителен и не приводит обычно к полной и быстрой ликвидации существующих различий.
Целенаправленность и сознательность нормализации весьма отчетливы и в тех случаях, когда наблюдаются значительные расхождения между нормами письменного и устного языка (ср. ситуации в Италии или Чехии) и существует необходимость их двухстороннего сближения.
Весьма значительна также роль сознательной нормализации языка при складывании норм литературных языков тех наций, которые оформляются при социализме. В этих условиях кодификация норм совершается на самой широкой социальной основе и при активном и сознательном участии носителей языка.
Можно упомянуть, наконец, и еще об одной ситуации, при которой сознательная сторона нормализационных процессов также усиливается. Подобная ситуация наблюдалась, например, в Германии, где вплоть до конца XIX в. отсутствовала сложившаяся естественным путем единая произносительная норма. Это привело к созданию специального нормативного орфоэпического руководства Т. Зибса, выработанного в результате сознательной договоренности ученых, писателей и актеров.
Основа кодификации и сфера применения выработанного таким путем литературного произношения была первоначально чрезвычайно узкой, она ограничивалась театральной сценой, в связи с чем литературное произношение и обозначалось здесь долгое время как Bühnenaussprache, т. е. «сценическое» произношение.
Явления, связанные с сознательной нормализацией языка, часто объединяются под общим понятием кодификации литературных норм. Подобное широкое понимание кодификации свойственно, например, лингвистам пражской школы.
Не имея возможности остановиться подробно на разнообразных сторонах кодификации, попытаемся охарактеризовать хотя бы основное содержание, а также некоторые формы кодификационных процессов.
Наиболее общим содержанием кодификации можно, видимо, считать отбор и закрепление инвентаря формальных языковых средств различного плана (орфографических, фонетических, грамматических, лексических), а также эксплицитное уточнение условий их употребления. Важным моментом кодификационных процессов является вместе с тем фиксация распределения и использования в языке разного рода вариантных реализаций.
В процессе сознательной кодификации норм можно выделить три тесно взаимосвязанные стороны — это оценка, отбор и закрепление реализаций, включаемых в норму. К основным видам оценки языковых явлений относится: разграничение правильных и неправильных (с точки зрения литературной нормы) реализаций; указание на более или менее употребительную форму (лексему, конструкцию) из числа вариантных реализаций; указание на различную сферу употребления языковых явлений, относящихся к норме, или на различные условия их употребления.
Точность кодификации, ее соответствие объективной норме в значительной степени зависят от языкового чутья нормализаторов, отражаясь вместе с тем в системе помет, используемых для характеристики соответствующих явлений в нормативных словарях и грамматиках.
Весьма существенным для оценки сознательной нормализации языка представляется нам то обстоятельство, что объект кодификации практически никогда не совпадает полностью с общим объемом языковых явлений, входящих в литературную норму.
Относительно узкая сфера языковых признаков, являющихся объектом кодификации, выступает особенно отчетливо, если принимать во внимание и историческую расчлененность, неодновременность кодификации явлений, относящихся к разным аспектам языка. Сравнительно поздно по времени и не всегда отчетливо кодифицируется, например, большинство синтаксических явлений, а также распределение вариантных реализаций, связанное с функционально-стилистическими разграничениями литературного языка.
К числу некодифицируемых или слабо кодифицируемых явлений относится и частотность употребления отдельных словоформ лексем и синтаксических конструкций. Лишь в некоторых случаях в нормативных пособиях и словарях приводятся частотные характеристики, как правило, они сводятся к общим и довольно неточным указаниям типа «продуктивно», «непродуктивно», «чаще», «реже» и т. д. Данное обстоятельство следует отнести как за счет сложности точных характеристик нормативных явлений, так и за счет несовершенства и приблизительности некоторых форм кодификации, что приводит в ряде случаев к неправильной или неточной фиксации нормативных явлений.
Причиной «ложной» кодификации может служить субъективизм оценок, недостаточность или неточность статистических данных, стремление нормализаторов к искусственному выравниванию форм «по аналогии», узкое понимание социальной, территориальной и функциональной основы норм, а также неверная оценка исторических тенденций развития языка.
Факты подобного рода наблюдаются в истории различных литературных языков. Так, например, в Германии в первой половине XVIII столетия И. Готтшед ратует за сохранение трех форм zwen — zwo — zwei, отражающих родовую дифференциацию соответствующего числительного, уже исчезавшую из употребления (заметим, что данные формы были в системе немецкого языка изолированными, так как для других числительных подобной дифференциации не существовало). Закрепление этих форм в грамматиках на некоторое время задержало их исчезновение, хотя на конечный результат процесса это обстоятельство существенного влияния не оказывает.
Впрочем, в некоторых условиях консервация архаических форм в процессе кодификации литературной нормы может надолго задержать их исчезновение, ср., например, длительное сохранение системы трех родов в письменной форме нидерландского языка.
Искусственное поддержание архаических форм иногда имеет своей причиной и стремление к парадигматическому единообразию форм, в ряде случаев противоречащее реальному историческому развитию языка (ср., например, для немецкого языка встречающуюся еще в XVIII в. глагольную форму 2 л. ед. ч. kummt по аналогии с stußt, или такие формы, как gehet, stehet, которые долгое время поддерживались нормализаторами, несмотря на явную тенденцию к сокращению их употребления, наблюдавшуюся уже в XVIII столетии).
Другая сторона данного явления связана с неверной оценкой новых, развивающихся в языке явлений и также со слишком узким пониманием отдельными нормализаторами территориальной, социальной или функциональной основы литературной нормы. Такова, например, борьба с так называемым «именным стилем» немецкого языка, основанная отчасти на игнорировании тех тенденций развития, которые наблюдаются в деловом языке и языке науки.
Заметим, что тенденция к широкому распространению именных конструкций (например, типа русск, заявить протест; нем. Abschied nehmen `попрощаться`) характерна не только для немецкого языка, но и для ряда других европейских языков. Так, для чешского языка ее в свое время отметил В. Матезиус, подчеркнувший вместе с тем преимущественное употребление именных конструкций в определенных сферах письменного общения.
Кодификация литературных норм, безусловно должна опираться на изучение языка разных функциональных разновидностей и учитывать существующие различия в употреблении отдельных языковых явлений, входящих в литературную норму. В последнее время вопрос этот, активно разрабатывающийся в отечественной лингвистике, ставится на материале «культуры речи» разных языков.
Успех сознательной нормализации языка зависит таким образом от соблюдения целого ряда условий, сформулированных наиболее отчетливо пражцами. К их числу относятся следующие моменты: 1) нормализация должна способствовать стабилизации литературного языка, не нарушая его структурных особенностей; 2) нормализации не следует углублять различий между устным и письменнным языком; 3) нормализация должна сохранять варианты и не должна устранять функциональных и стилистических различий.
К этой характеристике можно, по-видимому, добавить лишь одно: в процессе сознательной нормализации (т. е. кодификации норм) литературного языка должны приниматься во внимание особенности нормализации явлений, относящихся к разным подсистемам языка.
Определяя роль кодификационных процессов для разных сторон системы литературного языка, В. Матезиус писал: «Лингвистическая теория вмешивается прежде всего в норму правописания, в меньшей мере... в его фонетику, морфологию, синтаксис и меньше всего в его структуру и в лексику». Вместе с тем с его точки зрения, для всех уровней языковой реализации сохраняет свое значение борьба с архаизмами, а также поддержание вариантов, выражающих функциональные различия. Особенно важен этот последний аспект для синтаксических и лексических явлений, где число параллельных конструкций и лексем, закрепляемых нормой литературного языка, обычно особенно значительно.
Для орфографии, которая является продуктом «чистой условности», кодификационные процессы играют наибольшую роль. Они в значительной мере формируют саму орфографическую систему, приводя ее в соответствие с фонологической и фонетической системами. Впрочем, момент стихийности все же имеет место и при нормализации орфографии: он может быть отнесен за счет исторической традиции, известным образом затрудняющей и замедляющей действие кодификации. Из-за необходимости сохранять преемственность письменной традиции полная «оптимализация» орфографических правил оказывается практически не всегда возможной, чем и объясняется существование ряда исключений, а также сохранение некоторого числа вариантных написаний, нарушающих регулярность и простоту орфографической системы.
Серебренников Б.А. Общее языкознание — М., 1970 г.